Закон
им. Ломоносова
О загадке рождения современной физики
Что – самое интересное в науке? Рождение нового. Как
рождается новая идея? А теория? Как рождается факт, противоречащий теории и
требующий создания новой? Такие вопросы задает себе историк науки, но для всех
других история – это прежде всего юбилеи. Именно в такой форме общество обычно
получает вести из прошлого, и одна из последних: Михаилу Ломоносову - 300 лет.
Юбилеи, конечно, не оставят историков без работы, но когда годовщина столь
круглая, составлять очередной словесный портрет великого основоположника –дело
скучноватое. За триста лет все, что можно, уже сказано, а то и «отлито в
граните». Казалось бы.
Должен признаться, что ближе всего к Ломоносову я был,
когда учился в университете его имени и каждодневно проходил мимо его
казенно-монументальной фигуры. Ни бронзы многопудье, ни школьные сведения о
сыне рыбака, который готовил «быстрых разумом Невтонов» не побуждали углубиться
в его биографию, отложив новую физику.
Еще раз мимо Ломоносова я прошел много позже, когда
углублялся в биографию Сергея Вавилова. Заглянув в его статью «Закон
Ломоносова», напечатанную в 1949 году в газете с простодушным названием
«Правда», я сразу отвел глаза и глубоко вздохнул. И от духоты позднего
сталинизма и от сочувствия к Сергею Ивановичу. К той эпохе применимы слова
«Бывали хуже времена, но не было подлей». Тридцать седьмой год был хуже по
количеству казней, но трудно найти время душнее позднего сталинизма. Тогда, в
частности, громыхала «борьба с космополитизмом», и неизвестный великий закон
Ломоносова не стал громом среди ясного неба. То был не первый постыдный текст,
подписанный именем Президента Академии Наук СССР С.И.Вавилова. И я уже
понимал, что он нёс свое тяжкое бремя стыда, зная, для чего это делает. Он изо
всех сил защищал науку, защищал конкретных людей науки от государственной
машины с усатым вождем у руля.
Поэтому не хотелось даже всматриваться в текст статьи,
чтобы оценить вклад безымянных, но политически грамотных соавторов. За год до
того подпись Вавилова, вместе с тремя другими академиками, появилась и под
открытым письмом «О некоторых заблуждениях профессора Альберта Эйнштейна», а уж
тот текст явно сочинялся не физиками. Да и сам «закон Ломоносова» отбивал
охоту отнестись к нему всерьез: «Сколько чего у одного тела отнимется,
столько присовокупится к другому…». Тем более, что к этой формулировке
присовокуплялось определение материи, данное Лениным полутора веками позже. И
выговор заграничным физикам, которые игнорировали диалектический материализма.
Разумеется, сам Михайло Васильевич в этой диалектике
космополитизма не виновен. Как невиновен и другой невольный участник тогдашней
борьбы – первый российский физик мирового уровня Петр Николаевич Лебедев.
Его имя, через сорок лет после его смерти, взяли на вооружение казенные
патриоты в борьбе с «космополитами» и с «низкопоклонством перед Западом». Еще
через три десятилетия мне довелось лично познакомиться с таким товарищем.
Внушительного вида дядя, бывший сотрудник цензуры, защитив в сталинские годы
диссертацию о Лебедеве, написал и его биографию, которую начал фразой о том,
что Россия испокон веков «подвергалась набегам внешних врагов». Мое знакомство
с этим боевым историком случилось в эпоху брежневского покоя, когда он явился
на защиту моей диссертации (о размерности пространства) в качестве
добровольного - третьего - оппонента и озвучил свой огромный разгромный отзыв.
У меня он обнаружил «морально-патриотический дефект» - то, что я не опирался на
труды Циолковского и самого этого товарища. Но мне этот набег, скорее, помог,
поскольку разбудил в присутствовавших такие добрые слова обо мне, каких иначе я
бы вряд ли услышал. Слова занесли в протокол рядом с третьим отзывом, и все
закончилось благополучно. А я получил наглядное представление, какие люди и с
каким пылом воевали с космополитизмом, когда я еще в садик не ходил.
Диалектика
космополитизма
По воле истории (науки), как раз к 300-летию Ломоносова
мне понадобилось познакомиться с ним поближе. Начал я с сайта Академии Наук,
где жизнеописанию юбиляра предпослан эпиграф:
«Трудно назвать какую-либо отрасль науки, из существующих в XVIII в., в которую
бы Ломоносов не внес крупного творческого вклада. В физике, астрономии,
метеорологии, химии, геологии, горном деле, металлургии, географии, истории,
теории словесности и литературе он либо создал капитальные труды, совершил
выдающиеся научные открытия, либо выдвинул новые идеи, высказал гениальные
прогнозы. Многие идеи Ломоносова на десятки лет и столетия опередили свое время».
Среди этих слов, сказанных в 1961 году тогдашним
Президентом АН СССР, заметим, нет математики и механики, в которых Президент
более всего разбирался и, стало быть, он знал, что в эти науки Ломоносов
ничего не внес. Я бы рискнул вычеркнуть и физику. И сказал бы, что если идеи
настолько опередили свое время, значит, они никому не пригодились. Короче,
юбилейный эпиграф более подходит позднему сталинизму, чем вольной хрущевской
поре.
Я было подумал, что сталинизм и впрямь возвращается, если
ныне Академия наук применяет такие эпиграфы, однако дальнейшие материалы в
жизнеописании оказались гораздо честнее и интереснее. И возникла загадка. С
одной стороны, ничто в этих материалах не убеждало в каком-либо реальном вкладе
Ломоносова в физику. С другой стороны, в цитатах из его текстов
светился столь живой и независимый ум, такой энтузиазм познания и такая
ответственность за свое дело, что можно было понять неравнодушие к нему
столь мощных и разных личностей, как Пушкин и Вернадский, . Оказалось, что
первая работа Вернадского по истории науки посвящена трудам Ломоносова в
минералогии и геологии. С личностью Владимира Ивановича Вернадского я был
достаточно знаком, чтобы довериться ему в главной области его
компетенции. А кроме того, он отличался редкостным чувством истории и глубиной
взгляда.
Все это побудило вернуться к злосчастной статье о «законе
Ломоносова». Вавилов ведь тоже отличался редкостным интересом к истории. Писал
ли он ту статью лишь в ритуальных целях? И что он на самом деле думал о
Ломоносове? После того, как недавно обнаружился дневник, который Сергей
Иванович вел все свою жизнь, в этом легче разобраться. Но прежде всего надо
перечитать статью в «Правде» 1949 года, сравнив ее с фотокопией рукописи,
помещенной на академическом сайте.
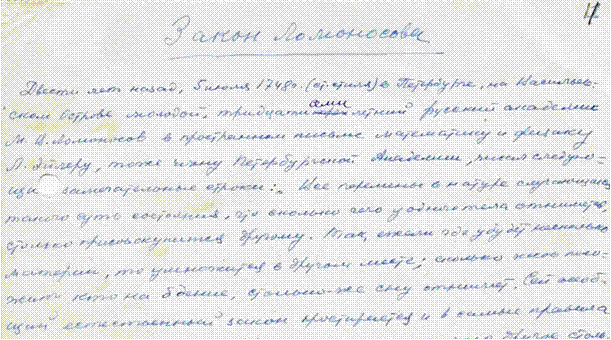 Сразу же обнаружилась
чужая рука. В рукописи Вавилов привел главную цитату в виде: «Все перемены,
в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела
отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько
материи, то умножится в другом месте; <сколько часов положит кто на
бдение, столько от сну отнимет >. Сей всеобщий естественный закон
простирается и в самые правила движения…».
Сразу же обнаружилась
чужая рука. В рукописи Вавилов привел главную цитату в виде: «Все перемены,
в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела
отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько
материи, то умножится в другом месте; <сколько часов положит кто на
бдение, столько от сну отнимет >. Сей всеобщий естественный закон
простирается и в самые правила движения…».
Выделенные слова в газету не попали. Можно понять –
несолидно.
Главное, однако, не вычеркнутые
слова в исторической цитате, а злободневная проблема советской физики в начале
1949 года, когда статья была опубликована. Тогда полным ходом шла подготовка к
«Всесоюзному совещанию физиков», которое грозило сделать с физикой нечто
подобное сделанному с биологией за несколько месяцев до того. Роль Трофима
Лысенко взяли на себя инициативные физики из МГУ, которые называли себя
патриотами и обвиняли академических физиков в низкопоклонстве перед Западом.
Низость поклона измеряли отношением чисел упоминаемых иностранных и российских
имен. Имена западных физиков, даже признанно великих, звучали компроматом, что
отбрасывало тень и на их научные идеи. А в статье Вавилова идеи Ломоносова и
Лебедева выглядят предвестниками эйнштейновского соотношения E=mc2 ,
что выбивало оружие из рук анти-космополитов. Те,
конечно, применяли и другие виды партийно-советского оружия. Но на стороне
Вавилова, как раз благодаря академическим физикам, появилось термоядерное
оружие, изобретенное в его ФИАНе как раз в начале 1949 года. В результате
совещание удалось отменить.
Ну а что же Ломоносов? Неужели он для Вавилова был лишь
удобным тактическим оружием?
Вавилов вглядывался в Ломоносова задолго до того. И все
прекрасно понимал. Вот начало его доклада 1936 года:
«В истории русской науки М. В. Ломоносов — явление глубоко радостное, но и
трагическое. Радостное потому, что этот крестьянин с Белого моря, преодолевший
умом, волей и силой неисчислимые барьеры строя, быта, традиций, предрассудков
старой Руси, ставший великим творцом науки, доказал на собственном примере
огромные скрытые культурные возможности великого народа. Трагическое потому,
что это доказательство осталось в течение многих десятилетий непримененным, неиспользованным. … погребено в нечитавшихся книгах, в ненапечатанных рукописях, в
оставленных и разоренных лабораториях на Васильевском острове и на Мойке.
Многочисленные остроумные приборы Ломоносова не только не производились, их не
потрудились даже сохранить!»
Опять загадка: если Ломоносов был неизвестен, как
о нем узнал - и увлекся им - Вавилов? И Вернадский – за полвека до того? А в
начале 19 века Пушкин, написавший:
«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов
обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души,
исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и
стихотворец, он всё испытал и всё проник…» «Он, лучше сказать, сам был первым
нашим университетом»? И почему тот же Пушкин написал коротко и ясно:
Невод рыбак расстилал
по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал.
Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя
ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять,
будешь помощник царям!
О
загадке рождения современной физики
Отвечу на более простой вопрос: чем Ломоносов
заинтересовал меня грешного. Размышляя о загадке рождения современной физики в
17 веке, я понял, что она именно родилась, а не плавно выросла из науки
предыдущих веков, что нужны были какие-то особые конкретные обстоятельства и
нужен был конкретный родитель. Таким родителем - изобретателем современной
физики – стал Галилей. Еще одну загадку – и вместе с тем ключ к разгадке –
давал тот факт, что современная физика родилась лишь в одной из четырех главных
цивилизаций, - в европейской цивилизации, которая в средние века не опережала
цивилизации Китая, Индии и Ислама. И еще несколько веков
современная наука не вышла за пределы Европы.
А в Россию пришла. Конечно, по соизволению монарха: в
начале 18 века Петр Великий учредил Российскую Академию наук, дав денег из
казны на ее обустройство и, главное, на приглашение европейских
ученых. Что им двигало? Прежде всего внешнеполитический расчет:
«Академия должна приобрести нам в Европе доверие и честь, доказав на деле,
что у нас работают для науки и что пора перестать считать нас за варваров, пренебрегающих
наукой».
Государева воля – это хорошо, но не достаточно для того,
чтобы завезенная из Европы наука укоренилась в новой почве. И Ломоносов,
похоже, сыграл особую роль в том, что точное естествознание в России прижилось.
В чем же была суть этой роли, если интереснейшие идеи Ломоносова не были
подхвачены коллегами? Не были подхвачены, потому что естествоиспытателей
надлежащего уровня в России еще не успело образоваться в достаточном
количестве, чтобы его идеи развить, уточнить, исправить.
Ломоносов осознавал в какую эпоху он жил:
«Пифагор за изобретение одного геометрического правила Зевсу принес на
жертву сто волов. Но ежели бы найденные в нынешние времена от остроумных
математиков правила по суеверной его ревности поступать, то бы едва в целом
свете столько рогатого скота сыскалось. Словом, в новейшие времена наука
столько возросла, что не токмо за тысячу, но и за сто лет жившие едва могли
того надеяться».
Чувства Пифагора были очень понятны Ломоносову, который
свои чувства выражал и в прозе, и в стихах:
Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мысльми утомлен.
В этих строках каждый рожденный исследователем узнает
свои мысли и чувства и укрепится в том, что он не одинок и что его
желание понять, как устроен мир звезд, заслуживает уважения и, главное,
заслуживает стараний. Так, наверняка, думал и Ломоносов, читая Галилея и зная,
как глубоко в бездну удалось проникнуть Ньютону, продолжая дело Галилея.
Галилей в истории науки сыграл двоякую роль. Во-первых,
его конкретные физические открытия показали плодотворность изобретенного им
метода фундаментальной науки. А во-вторых, его книги, по существу
научно-популярные, не просто излагали идеи и полученные результаты. Они, своими
литературными достоинствами, заражали страстью к познанию. Только настоящая
страсть питает своей энергией веру и настойчивость, целеустремленность и
воображение. Преемственность в науке – это не заполнение пустого сосуда, а
зажигание светильника.
Если Пушкин, для которого наука не была призванием,
чувствовал в текстах Ломоносова подлинный жар страсти к научному познанию, то
тем более его ощущали юные потенциальные естествоиспытатели. И, несомненно, их
подбадривала история жизни Ломоносова – сын рыбака шел через тернии к звездам. Так
что делал свое дело и его дар слова. Научное сообщество росло, и создавались
условия для цепной реакции развития идей, которая образует историю мировой
науки. Первые русские открытия мирового значения сделали Лобачевский и
Менделеев.
Чтобы оценить силу чувств, вовлеченных в этот идейный
процесс, послушаем Ломоносова:
«Когда от любви беспокоящийся жених желает познать прямо
склонность своей к себе невесты, тогда, разговаривая с нею, примечает в лице
перемены цвету, очей обращение и речей порядок; наблюдает ея
дружества, обходительства и увеселения, выспрашивает
рабынь, которые ей при пробуждении, при нарядах, при выездах и при домашних
упражнениях служат; и так по всему тому точно уверяется о подлинном сердца ея состоянии. Равным образом прекрасныя
Натуры рачительный любитель, желая испытать толь глубоко сокровенное состояние
первоначальных частиц, тела составляющих, должен высматривать все оных свойства
и перемены, а особливо те, которые показывает ближайшая ея
служительница и наперсница и в самые внутренние чертоги вход имеющая Химия; и
когда она разделенные и рассеянные частицы из растворов в твердые части
соединяет и показывает разные в них фигуры, выспрашивать у осторожной и
догадливой Геометрии; когда твердые тела на жидкие, жидкие на твердые переменяет,
а разных родов материи разделяет и соединяет, советовать с точною и
замысловатою Механикою; и когда чрез слитие жидких материй разные цветы
производит, выведывать чрез проницательную Оптику. Таким образом, когда Химия
пребогатый госпожи своея потаенные сокровища
разбирает, любопытный и неусыпный Натуры рачитель оные чрез Геометрию
вымеривать, через Механику развешивать и через Оптику высматривать станет, то
весьма вероятно, что он желаемых тайностей достигнет.»
Текст этот близок к началу русской науки, когда в русский
язык входили новые понятия и новые слова. Латинское слово Natura
лишь поменяло алфавит и еще не стало Природой, «Химия» обозначает физику
микромира. Но без всяких переводов понятно соединение мыслей и чувств
естествоиспытателя, смело и по-хозяйски глядящего на мир. Все это было очень
даже понятно и близко наследникам Ломоносова, каким себя считал Вавилов.
В
дневнике Вавилова
Заглянем в дневник Сергея Вавилова, чтобы увидеть, как
великий предшественник являлся в мыслях директора Физического института, а с
1945 года и президента Академии наук.
16
февраля 1947. «Русская наука. О ней так
часто приходится говорить на официальных выступлениях всякого рода. Она,
конечно, была, есть, и может быть в размерах и качествах совсем других, чем
теперь. Но действительно ей надо всячески помочь, и деньгами, и всем, и
особенно правильным выбором. На одного Ломоносова попадаются десятки Никит
Поповых. Надо очень серьезно учиться, выбирать людей и тратить много денег и
всего. А делается все в малой степени.»
Никита Попов, вместе с Ломоносовым и еще десятью
учениками из Москвы, был выбран для продолжения образования в Академии наук в
Петербурге. Стал астрономом, но не преуспел, был уволен из Академии и работал
чиновником.
14 августа 1948. «Совещание у Маленкова. Лысенко,
Бенедиктов, Кафтанов, Орбели. Вспомнился мне момент в августе 1939 [1940?]
г. в Ленинграде, когда очень хотелось броситься в лестничный пролет вниз
головой. Все же ХХ век. Прошли и Галилей и Ньютон и Ломоносов. Такие вещи
возможны только на религиозной почве. Естествознание!? Как будто бы вся жизнь
прожита неизвестно зачем. Все заплевано и растоптано сапогом.»
Совещание последовало за августовской сессией ВАСХНИЛ, на
которой Лысенко воцарился в советской биологии и разгромил генетику. А за восемь
лет до того, в августе 1940-го, арестовали старшего брата Вавилова - Николая,
знаменитого биолога, академика, директора Института генетики. Между этими
августами Николая Вавилова замучили до смерти в тюрьме, а Лысенко занял
его директорское место, был награжден двумя Сталинскими премиями и званием
Героя Социалистического Труда. Из дневника Сергея Вавилова видно, что мысли о
погибшем брате не оставляли его.
Как же при этом он 17 июля 1945 года был выбран
Президентом Академии Наук? Выбирал-то Сталин, сияние сапог которого Вавилов уже
несколько раз видел в кремлевском кабинете («…И сияют его голенища»). И у
Сталина был свой сталинский расчет.
А Сергею Вавилову надо было выбрать между двумя
принципами: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" или
"Умереть стоя, или защищать дело жизни, хоть и на коленях?".
Делом его жизни был созданный им Физический институт, в который он вложил душу.
Это и его сотрудники, и часть мировой науки, и жизненная составляющая
отечественной культуры: "Он чувствовал себя наследником ее прошлого,
глубоко и лично ответственным за ее будущее", сказал близко знавший
его Е.Л. Фейнберг.
Чувство ответственности заставило Вавилова принять
тяжелый груз – стать частью правительства, прикрыв собой гибель брата от рук
того же самого правительства. Этот груз он нес всего пять лет, – освободила его
скоропостижная смерть в январе 1951 года. У окружавших его сложилось
впечатление, что, отказываясь от врачебной помощи, он сознательно шел
навстречу смерти, и это видно из дневника. Такой уход, во всяком случае, не
выглядел политическим шагом, не подвергал дополнительной опасности дело,
которому он служил. Но само служение теряло смысл. Он все более ощущал марионеточность жизни и свою опустошенность.
Тем интереснее неожиданные слова Вавилова о науке и
религии: «Прошли и Галилей и Ньютон и Ломоносов. Такие вещи возможны только
на религиозной почве». Этим словам президента АН СССР особое значение
придает то, что сам он религиозную веру утратил, о чем не раз писал в дневнике.
Например, так: «Про себя: духовная пустыня. … полная безотрадная ясность
выстраданного материализма».
Тем не менее, внимательный и честный историк Вавилов,
читая Галилея, Ньютона и Ломоносова, видел, что из их мировосприятий
невозможно удалить религиозность. К сожалению, Вавилов не пояснил, как он
совмещал свой выстраданный материализм-атеизм с уверенностью, что научные
достижения Галилея, Ньютона и Ломоносова выросли на религиозной
почве. Но сама такая связь подсказывает ответ на вопрос, почему наука прижилась
в России гораздо раньше, чем в Китае и в мире Ислама, .
Галилей, Ньютон и Ломоносов формально различались
своими конфессиями – католик, протестант и православный. Однако столь свободно
мыслящие исследователи в формальности не укладываются. Каждый из них свою
несомненную религиозность осмысливал по-своему, и не зря каждый оказывался не в
ладах с официальными церквами. На религиозные тексты они смотрели не более
почтительно, чем на тексты научные, за одним лишь исключением,– первоисточник
знаний о Боге и человеке они видели в Библии. Все они принадлежали Библейской
цивилизации, в которой возникло представление о двух книгах одного и того
же Автора – Книга Писания и Книга Природы. Каждая из книг требовала усилий,
чтобы понять ее, опираясь на разум и чувства, но все трое верили, что
Всевышний, создав свое главное творение по образу своему и подобию, дал ему и
способность к познанию. В формулировке Эйнштейна, Господь Бог изощрен, но
не злонамерен. История свидетельствует, что в пределах Библейской
цивилизации современная наука распространялась много легче, чем за ее пределы.
Библейская цивилизация признала своими законными детьми и
атеистов, поскольку именно в этой цивилизации и притом глубоко верующими людьми
был выдвинут и воплотился в законы принцип отделения церкви от государства.
Потому неверующие Вернадский и Вавилов чувствовали себя как дома в этой
цивилизации, рядом с людьми верующими. Библия растворилась в этой цивилизации и
присутствует в ее языках и мыслях ее детей, даже если этого не замечают. Как,
например, в дневниковой записи Вавилова 11 января 1949:
«Тяжеловесная, не знаю нужная или не нужная сессия по
истории науки кончилась. В ней много было фальшивого, но было хорошее
настоящее. Ломоносовский музей, например. До известной степени: “Ныне отпущаеши”. »
Эти слова произнес евангельский праведник Симеон, знавший, что не умрет, пока не увидит Мессию. Когда
родители принесли младенца Иисуса в храм, Симеон
взял его на руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,
по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу
народа Твоего Израиля» (Лк.2:29-32)
К кому обращался Президент АН СССР словами Симеона? К кому-то за горизонтом.
Глубоко
русские космополиты
Между Ломоносовым и его почитателями Вернадским и
Вавиловым есть нечто общее, помимо любви к науке, широты взгляда и
чувства ответственности. Все они -глубоко русские космополиты в
исходном смысле этого слова. Исходный смысл возник в Древней Греции,
когда гражданин полиса – города-государства – осознавал, что мир за пределами
полиса – это не просто что-то чуждое, не-нашенское, а нечто,
связанное с жизнью родного полиса. Такой человек называл себя
космополитом – гражданином мира. Это предполагало широкий и свободный взгляд на
мир, на свой родной полис и на себя самого.
В советском лексиконе отношение к понятию сильно
менялось. В 30-е годы Большая Советская энциклопедия вполне сочувственно
объясняла космополитизм как «идею родины, граничащей со всем миром» и
внушала, что «рабочий класс, являясь патриотом своей социалистической родины,
вместе с тем стремится превратить в свою родину весь мир». Через 10 лет
советские словари изменили свое мнение, объясняя, что космополитизм
«пропагандируется реакционными идеологами американо-английского империализма,
стремящегося к установлению своего мирового господства». А в народе тогда
говорили: «Чтоб не прослыть антисемитом, зови жида космополитом». Но это звание
применялось не только для евреев. Так например, в проекта постановления
уже упомянутого Совещания физиков, Капица обвинялся в том, что «проповедовал
откровенный космополитизм».
Поэтому лучше держаться исходного смысла, который не
зависит от политической кутерьмы и встает перед каждым широко мыслящим
человеком.
Поразмыслив над биографиями Ломоносова, Вернадского и
Вавилова, я готов предложить Закон им. Ломоносова, согласно которому:
Каждый глубоко русский человек – космополит.
Этот закон нетрудно обосновать и вненаучно,
в пределах самой национальной части русской культуры - в русском языке. В самом
деле, какой глубоко русский человек не знает, что главный русский поэт всегда
помнил о своем африканском происхождении, что главный словарь живого
великорусского языка составил лютеранин датского происхождения, что главные
русские имена Иван да Марья – еврейского происхождения, как и
значительная часть русских поэтов 20 века. И это нисколько не делает всё эти
менее русским.
А для тех, кто посвятил свою жизнь науке, ситуация еще проще.
Уже язык науки - единый язык мировой науки – говорит о ее
космополитической географии. И ответственность Ломоносова, Вернадского и
Вавилова за судьбы отечественной науки – это их ответственность перед наукой
мировой. Ответственность за судьбы тех талантов, которых, по выражению Пушкина,
угораздило родиться в России. Говорят, что талант – это поручение, но дается
это поручение на уровне повыше правительственного. Глубоко русские космополиты
вразумляли правителей о бережном отношении к главному природному ресурсу страны
– ее талантам, но при этом прекрасно понимали, что это – и ресурс всего
человечества.
Советские агит-лубки изображали
борьбу Ломоносова с засильем немцев в Академии Наук. Но он сражался не с
немцем Шумахером, а с чиновником, который всякими шахер-махерами пилил
академический бюджет. Ломоносов с горечью писал об отъезде из России
первых академиков, приехавших из западной Европы, «кои только великим именем
Петровым подвиглись выехать в Россию для просвещения его народа, но, Шумахером
вытеснены, отъехали, утирая слезы».
Ломоносов, после пяти лет образования в Германии, на всю
жизнь сохранил самые теплые чувства к своему учителю – профессору Вольфу и
перевел его учебник. А из Германии он привез не только европейскую науку, но и
немецкую жену. И свою формулировку закона сохранения материи Ломоносов высказал
в письме немцу Эйлеру. Когда же Ломоносов писал, «что может собственных
Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать», для него грек
Платон и англичанин Ньютон были родными коллегами, а не чужими
басурманами.
Что же касается русского космополитизма Вернадского и
Вавилова, тому есть целая коллекция вещественных и существенных доказательств,
которые легче всего увидеть в их замечательных дневниках. Оба писали с
поразительной правдивостью. Вернадский, например, в дневнике 1937
года газету «Правда» назвал «Кривдой», а в 1938-м записал такую мысль: «Конечно,
и гитлеризм и сталинизм – преходящая стадия, и едва ли жизнь пойдет без
взрывов».
Для тех, кто еще использует слово «космополит» в смысле
1949 года, имеется простой довод – сходное отношение Вернадского и
Вавилова к Леониду Исааковичу Мандельштаму, который был не менее русским
космополитом, чем Ломоносов и Лебедев. Как и они, получив образование в
Германии, Мандельштам вернулся в Россию и создал научную школу, которая дала
стране и миру замечательных физиков, а по совместительству выдающихся граждан,
включая нобелевских лауреатов А.Д.Сахарова и В.Л.Гинзбурга.
На смерть Мандельштама Вавилов откликнулся записью в
дневнике: «Самый замечательный человек среди ученых, которых я в России
знал. Сверхчеловеческая тонкость физического мышления. Редчайшая моральная
честность в самых тяжелых условиях с добротой и добродушием и общая культура
настоящего homo sapiens.
Еще пустыннее стало». И спустя несколько месяцев: «Боже мой, как мало
настоящих людей, как мать, Олюшка, Мандельштам!»
А если настоящих людей мало, то зачем разделять их
какими-то границами?
Можно сослаться на статьи в З-С:
Историк науки у Древа познания // Знание-сила, 2010, №10.
П.Н. Лебедев, давление света и давление
обстоятельств // Знание-сила, 1998, №5.
В.И.
Вернадский и Советский атомный проект // Знание - Сила, 1996, №3, 4.
Леонид Мандельштам и его школа // Знание - Сила, 2004, № 12